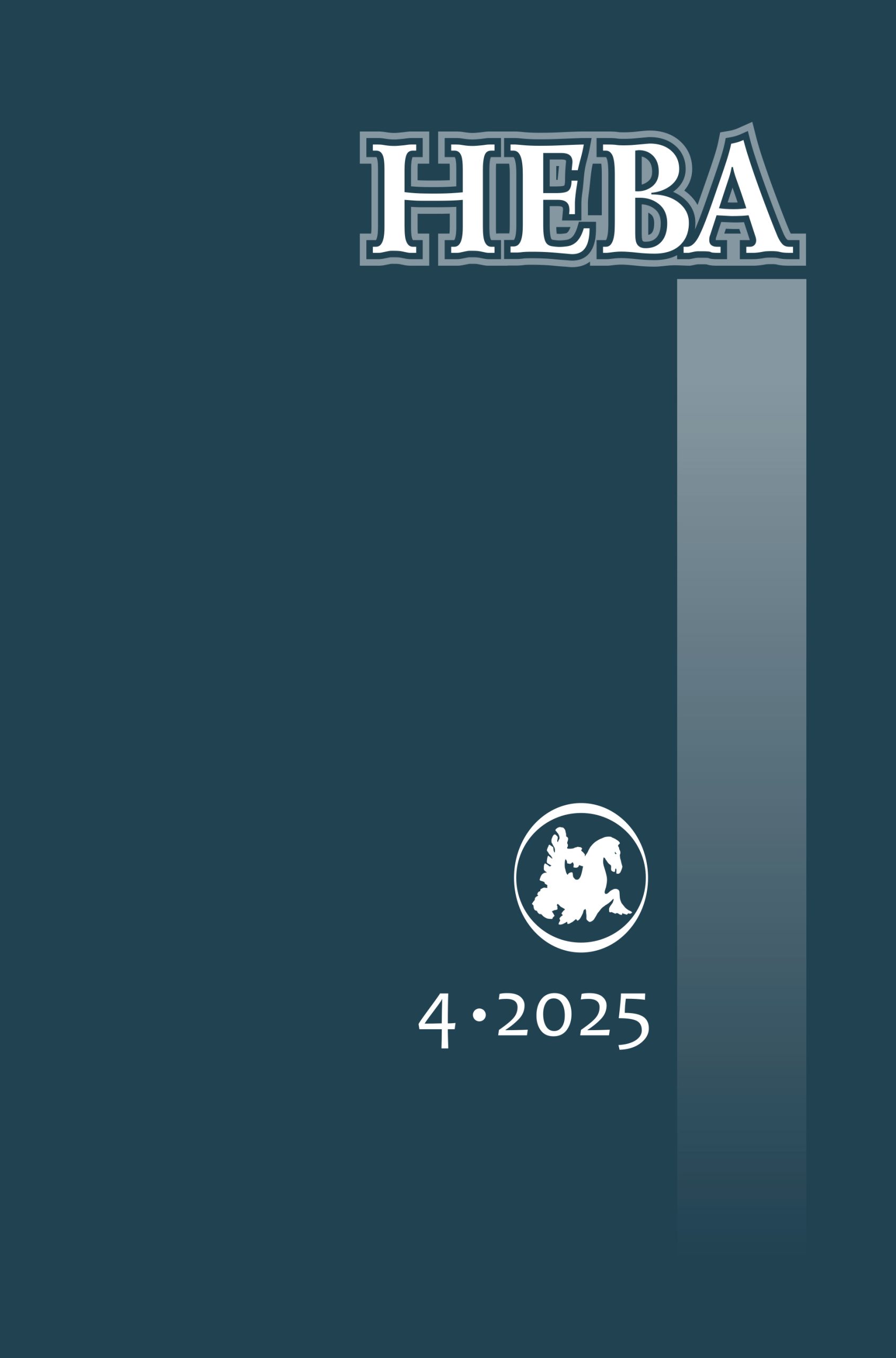Александр Мелихов. «Бойцы должны видеть друг друга»
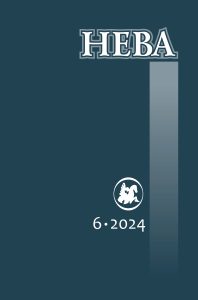 Когда-то мне показалась остроумной эта шутка: живем, как в автобусе: одни сидят, другие трясутся. Но когда ее начали применять к нашей жизни чуть ли не всерьез, заговаривать о стране рабов, это уже начало отдавать подловатой клеветой. В североказахстанском окружении моего детства отсидели довольно многие, но не трясся НИКТО. Ссыльная интеллигенция одолевала свою жизненную катастрофу утроенным достоинством, а шахтерщина-шоферщина вообще ничего не боялись, для них было самым простым делом что-то спереть на производстве или подраться и срубить за это треху-пятерку. Запуганным у нас выглядело только начальство со своей надутостью, оно без крайней необходимости в своих шляпах и «польтах» старалось не соваться в шанхайский мир кепок и «куфаек». Вот в их мире, возможно, и писали те самые четыре миллиона доносов, хотя цифра эта, скорее всего, взялась оттуда же, откуда берется все общеизвестное, — с потолка. А в том мире, в котором я жил, если бы даже кому-то и вздумалось написать донос, он бы не знал, куда с ним сунуться, — мир государственной власти не имел с моим миром решительно ничего общего, он воспринимался как климат, не более того.
Когда-то мне показалась остроумной эта шутка: живем, как в автобусе: одни сидят, другие трясутся. Но когда ее начали применять к нашей жизни чуть ли не всерьез, заговаривать о стране рабов, это уже начало отдавать подловатой клеветой. В североказахстанском окружении моего детства отсидели довольно многие, но не трясся НИКТО. Ссыльная интеллигенция одолевала свою жизненную катастрофу утроенным достоинством, а шахтерщина-шоферщина вообще ничего не боялись, для них было самым простым делом что-то спереть на производстве или подраться и срубить за это треху-пятерку. Запуганным у нас выглядело только начальство со своей надутостью, оно без крайней необходимости в своих шляпах и «польтах» старалось не соваться в шанхайский мир кепок и «куфаек». Вот в их мире, возможно, и писали те самые четыре миллиона доносов, хотя цифра эта, скорее всего, взялась оттуда же, откуда берется все общеизвестное, — с потолка. А в том мире, в котором я жил, если бы даже кому-то и вздумалось написать донос, он бы не знал, куда с ним сунуться, — мир государственной власти не имел с моим миром решительно ничего общего, он воспринимался как климат, не более того.
Хотя и не менее — это была вечная безличная стихия, на которую могли сердиться только дураки и дети.
Миф о миллионах доносов, бывших якобы главной причиной массовых репрессий в СССР (типичное перенесение вины на жертву), разоблачил историк Олег Хлевнюк: «Первые серьезные сомнения по поводу доносов появились в начале 1990-х гг., когда ненадолго открылся доступ к материалам следственных дел 1937 – 1938 гг. Выяснилось, что основой обвинительных материалов в следственных делах были признания, полученные во время следствия. При этом заявления и доносы как доказательство вины арестованного в следственных делах встречаются крайне редко.
Глубокое изучение механизмов „большого террора“ помогло понять, в чем тут причины. Организация массовых операций 1937 – 1938 гг. не требовала использования доносов как основы для арестов. Первоначально изъятия антисоветских элементов проводились на основе картотек НКВД, а затем на основе показаний, выбитых на следствии. Запустив конвейер допросов с применением пыток, чекисты были в избытке обеспечены „врагами“ и не нуждались в подсказках доносчиков.
В конце 1937 г. Ежов разослал в УНКВД краев и областей указание с требованием сообщить о заговорах, которые были вскрыты с помощью рабочих и колхозников. Результаты были разочаровывающими. Типичная шифровка пришла 12 декабря 1937 г. от начальника Омского УНКВД: „Случаев разоблачения по инициативе колхозников и рабочих шпионско-диверсионных троцкистско-бухаринских и иных организаций не было“».
Причины «большого террора». Олег Хлевнюк о мотивах, мифах и последствиях репрессий 1937 — 1938 гг. Ведомости № 4358 от 7 июля 2017 г.
Интеллигенции часто кажется, что если она не может внушить народу свои идеи, то это означает, что он слушается кого-то другого, начальства прежде всего. Это глубокое заблуждение — он не слушается никого. Но чужому начальству доверяет еще меньше, чем собственному.
О мнимой покорности народа написано предостаточно, однако еще никто не написал нужнейшую книгу о повсеместном скрытом сопротивлении, которое позволило выжить — даже и оценить невозможно, какому числу преследуемых властью. Если бы каждый вспомнил о спасительной руке, протянутой кому-то из гонимых в тяжелую минуту, могла бы получиться драгоценнейшая книга.
Своего рода «архипелаг Верности». Верности родственнику, другу, любимому. Или чести, великодушию. Вполне возможно, что незаметные разрозненные искорки человеческой взаимопомощи по своей совокупной массе окажутся сопоставимы с черным океаном государственного террора. Как писал Толстой, Наполеона победили мужики Карп и Влас, отказавшиеся даже за хорошие деньги подвозить ему сено. О победе над внутренним оккупантом речи идти не может, но о выстаивании, о сохранении своих ценностей очень даже может.
Попробую внести и я свои три искорки.
После войны моему отцу, отсидевшему с 1936-го по 1941-й, удалось устроиться в Россошанский пединститут (взят он был из Киевского университета), но когда началась космополитическая кампания, какая-то бдительная гнида подняла на парткоме вопрос, почему у них работает бывший осужденный. И ректор, в недавнем прошлом командир партизанского отряда Пустогаров на голубом глазу соврал, что отец давно реабилитирован. Поступок был настолько отчаянный, что никому не пришло в голову проверить.
Чем он рисковал, вы догадываетесь — партбилетом и должностью, как минимум.
Мне кажется, мы просто НЕ ИМЕЕМ ПРАВА забывать о таких невидимых миру подвигах.
А через некоторое время еще и начали брать «повторников», то есть отсидевших, и подполковник, начальник местного МГБ, а заодно отцовский студент-заочник, вызвал его к себе и спросил: «Скажите по совести, есть за вами хоть что-то?» — и отец вложил в свой ответ последние запасы искренности: «Клянусь, НИЧЕГО». И тот сказал: «Немедленно уезжайте, завтра я уже ничем помочь не смогу». Отец с мамой схватили под мышку меня и брата... Но уже на вокзале у отца оборвалось сердце: он увидел того же подполковника, в своей шинели перешагивающего через обессилевшие тела.
Но оказалось, он пришел спросить, не нужно ли помочь с билетом.
И уж он-то рисковал не меньше как свободой.
А потом в Северном Казахстане отца не брали на работу, и муж другой моей тети Ксении, страшный партийный зануда и секретарь захудалого района в Южном Казахстане, позвал их к себе и пообещал куда-нибудь пристроить. Тоже серьезно при этом рискуя.
Эти искорки верности и чести тем более драгоценны, чем непрогляднее та тьма, среди которой они вспыхивали. Я думаю, едва ли не в каждом пострадавшем семействе помнится что-то в этом роде. Поднапрягшись, я вспомнил еще один эпизод из истории нашего семейного клана. Брат моего деда Кузьмы дядя Левонтий по мобилизации служил у Колчака, и о его белогвардейском прошлом знала вся родня, а значит, еще и все ее друзья и подруги, это, минимум, около сотни человек, — и никто никуда не стукнул.
И еще вспомнил. В двадцатых сам дед Кузьма, тогда, впрочем, еще не дед, а преуспевающий кузнец и токарь, увидел на маленькой площади села Боровое перед какой-то начальственной конторой растерянную девушку нехарактерной для Кустанайщины внешности. «Ты кто такая?» — «Я сионистка», — времена были сравнительно вегетарианские, их всего лишь высылали. Дед Кузьма и слова такого никогда не слыхал, но взял ее котомку и повел к себе домой, — так у них она и прокантовалась, пока ее куда-то не перевели. И когда мама выходила за ссыльного еврея, дедушка тоже не выказал никаких особых чувств, — еврей не еврей, ссыльный не ссыльный — это как кому повезет.
А за отцовским лучшим другом, угодившим таки в поток «повторников», его жена, нормальная русская женщина, совершенно не склонная к красивым жестам, отправилась, подобно княгине Волконской, в сибирскую ссылку на песенную Бирюсу и этим спасла ему жизнь, очкарику, не приспособленному для выживания среди тайги. Никогда не рассматривая свой поступок как какой-то особенный подвиг — а как же иначе?
На архипелаге Верности иначе действительно не бывает.
А отец посылал ему туда деньги через свою жену, мою маму, его жене под видом возвращения долга, чтобы не сшили еще одно дело.
Хотя вполне могли и не посчитаться с этой хитростью Полишинеля.
Надеюсь, еще не поздно собрать сохранившиеся воспоминания о подобных эпизодах. Или хотя бы воспоминания о воспоминаниях. Нужно дорожить каждой искоркой света, каждым именем и поступком, которые хотелось бы спасти от забвения.
Поэтому призываю всех, кому это кажется важным, присылать максимально сжатые и точные рассказы из истории невидимого противостояния государственному террору, по возможности избегая сведения счетов. О подлостях и жестокостях написано достаточно, хотя океан этот вычерпывать можно бесконечно, но если мы даже не попытаемся вспомнить тех, кто выстоял, не поддался страху и соблазну, это будет подлостью и жестокостью уже с нашей стороны.
Все это, к счастью, дела сравнительно давно минувших и, надеюсь, миновавших дней. Но и в наши дни каждому ежедневно приходится бороться с соблазнами алчности и цинизма, и делать это тем труднее, чем чаще приходится слышать, что в наше-де время такие романтические добродетели, как щедрость, верность, бескорыстие, давно повывелись.
Разумеется, этого нет и никогда не будет, но многие благородные люди уже начинают представляться себе чудаками, последними солдатами в брошенной траншее.
А маршал Рокоссовский, в первые дни войны посидев в изолированном окопе, ощутил острое желание каждую минуту проверять, не сбежали ли остальные, не остался ли он один, — и сделал очень важный вывод: бойцы должны видеть друг друга.
Для этого мы и открываем рубрику «Архипелаг Благородства» и призываем наших читателей рассказывать о будничных благородных примерах. Именно будничных, невидимых миру, иногда кажущихся не стоящими внимания. Но возможно, именно общая масса рассеянного в мире архипелага Благородства не позволяет миру скатиться в ад.
Порадуйте нас такими примерами, а мы будем радовать вас. Открывать нам всем, что жизнь далеко не так безнадежна, как ее малюют пошляки и циники.
Присылайте ваши истории по адресу nevaredaction@mail.ru, обозначая тему письма «Архипелаг Благородства».
А пока я хочу обратиться к известным литераторам с двумя вопросами: в каком направлении они посоветовали бы развивать эту идею, и нет ли у них в памяти примеров будничного благородства, о которых они хотели бы поведать миру.
Денис Драгунский
Вот моя дневниковая запись.
Есть вещи, которые не позволяют отчаиваться. Какая-то женщина в 1938 году подобрала на железнодорожной насыпи написанное на тряпочке письмо заключенной, моей двоюродной бабушки — выброшенное из окна на авось: авось добрый человек найдется.
Она отнесла это письмо не в НКВД, а по адресу.
Сейчас это письмо в музее, в витрине. А эта «какая-то женщина», я точно знаю, пребывает в раю. Милая! Моли за нас Царицу Небесную!
(16 мая 2016 года)
Вера Калмыкова
1. Откуда взялся сюжет с миллионами доносов? Источник — выступления Н. С. Хрущева. Придя к власти, он, во-первых, озаботился уничтожением документов, выдававших его личную причастность к «большому террору» (насколько понятно из публикаций, преуспел), а во-вторых, постарался выставить И. В. Сталина единственным виновником репрессий (тоже преуспел). Второе особенно интересно, если вспомнить, например, историю борьбы Сталина с украинскими коммунистами за восстановление доброго имени писателя М. А. Булгакова. Напомню: украинские коммунисты возненавидели Булгакова за роман «Белая гвардия» и пьесу «Дни Турбиных», в которых, как они считали, революционный процесс на Украине был представлен в искаженном виде. В этой борьбе, как мы знаем, Сталин победил, но ценой не репрессий, а долгих пере- и уговоров.
Космические цифры, озвученные Хрущевым, подхватил, как ни парадоксально, А. И. Солженицын. И, как говорится, понеслось.
Смиренно полагаю себя предпоследним человеком, которого можно обвинить в сталинизме. Доказательство: Калмыкова В. Человеческое измерение // Сибирские огни. 2023. № 10. Однако уверена, что в одиночку «большой террор» не организовать, в таком деле нужна поддержка. Теперь же необходимо создание специальной институции по изучению этого времени и событий. Мы должны для самих себя и потомков воссоздать по документам ход событий и выпустить подготовленные специалистами правдивые исследования ситуации. Нас качает от миллионов доносов к внутренней активности органов власти, а ведь это две абсолютно непохожие модели социального поведения. Такие исследования — и на их основе кино, документальные и художественные, и информация в СМИ, и др. — нужны прежде всего нам и для нас. Мы должны знать себя.
Александр Мелихов как социальный философ, на мой взгляд, предлагает небывалый в России проект, нацеленный на слом самых стойких стереотипов, касающихся не поведения и даже не мировоззрения, а буквально национального характера и национальной картины мира. Уникальность проекта в том, что автор предлагает поменять точку сборки: один из немногих русских деятелей культуры (чтобы не сказать единственный — вдруг все-таки нет?), он предлагает не отрицание отрицания, не негативную реакцию на негатив. Мелихов принципиально отталкивается не от того, «что
в России (и, соответственно, в русских людях) плохого», а от того, что хорошего, уникального. Парадоксально, что и саму национальную уникальность он выводит из сравнения не с другими нациями, а с представлениями русских о самих себе.
Пример — то, что Мелихов предлагает сейчас. Искать не приспешников «большого террора», а тех, кто ему даже не сопротивлялся — игнорировал его, жил по законам человечности. Обращаю внимание, что такого до сего дня никто не предлагал: наше представление о самих себе как о народе традиционно строится на критике наших же собственных недостатков, «отклонений», «отставаний» и др. Русские как будто все время с кем-то соревнуются, или кого-то догоняют, или перед кем-то оправдываются за собственную недостаточность. При таком подходе игнорируется положительное содержание — оно просто не рассматривается, и это очень странно. Мы должны относиться к себе без гордыни или уничижения, которое, как известно, паче гордости, но с достоинством.
2. Мой дед, Владимир Васильевич Калмыков, член большевистской партии с 1918 года, участник Гражданской войны, политработник, в 1930-х годах работал на химкомбинате в Березниках (Пермская обл.). Арестован Ворошиловским РО НКВД 3 марта 1938 года как участник контрреволюционной диверсионной и террористической меньшевистской организации (статья УК 58-6-8-9-11). 5 ноября 1939 года решением нарсуда 2-го участка Ворошиловского района дело прекращено за отсутствием состава преступления.
Как рассказывал отец, признательные показания из деда в буквальном смысле выбивали — струей воды из шланга. Пытались выбить. В свои сорок мой Василий Калмыков оставался могучим русским мужиком с очень крепким здоровьем и стабильной нервной системой. Никто, кроме жены, Песи-Гели Гилелевны Тодриной, нарушить его неколебимое спокойствие был не в состоянии. Ледяная струя на морозе не принадлежала к числу факторов, способных заставить деда оболгать себя и кого-то другого (материалы дела я не смотрела, но раз речь идет об организации, понятно, что имелась в виду некая группа). Именно поэтому состава преступления и не оказалось: пытка не вынудила его этот самый состав себе и другим обеспечить. Люди менее устойчивые физически и психически, как мы знаем, признавали вину, отправлялись, кто в лагерь, кто на расстрел, и тянули за собой некоторое количество сограждан. Все время, пока Василий Калмыков находился под следствием, у двери комнаты в московской коммуналке, где жили его жена и сын, стоял саквояж с бабкиными вещами: традиционной «сменой белья» и предметами личной гигиены. Бабка ждала, что придут и за ней,
и не хотела, чтобы ее застали врасплох.
После освобождения дед еще некоторое время работал на Дятьковском (Мальцовском) хрустальном заводе. В июле 1941 года в возрасте 43 лет он добровольцем отправился на войну. Перед уходом на фронт получил подарок от сослуживцев — графин в виде хвостатого медведя (длинный хвост — третья точка опоры) из зеркального стекла. Как я понимаю, таких медведей после революции не делали, и для деда старался кто-то из старых мастеров. Долгое время это была единственная драгоценная вещь в нашем доме.
Елена Долгопят
Моей семье повезло: никто не отбывал. Случаи, которые вспоминаются, все какие-то малозначительные. В сравнении с твоими, когда люди рисковали (благополучием, жизнью).
Тем не менее:
1. Наум Ихильевич Клейман (киновед, первый директор Музея кино и мой друг) рассказывал (не только мне), как их семью погнали из Молдавии (бывшей Румынии) в Сибирь (1949 год). Мне запомнилась женщина из его рассказов, она гадала по картам всем желающим — и всегда только хорошее. Люди (женщины, я полагаю) ходили к ней за утешением. Чего ей это утешение стоило? Да ничего.
А в школе у них были прекрасные учителя (большинство, насколько я понимаю, из таких же ссыльных или отсидевших). Они им устроили в школе что-то вроде Третьяковской галереи (или, может быть, Эрмитажа) на репродукциях.
Что им это стоило? Ничего. Наверное.
Я что-нибудь да путаю, а вот его рассказ от первого лица очень, мне кажется, в тему: https://web.archive.org/web/20160329135730/http://oralhistory.ru/talks/orh-1878.
2. Мама рассказывала, что у нас в Муроме (район под названием Казанка, одноэтажные дома с участками, полугород-полудеревня, рядом завод) жил один человек, о нем говорили, что он писал доносы. Не начальник, а просто рабочий. Его сын воевал, вернулся в красивой моряцкой форме, женился на учительнице, она преподавала английский язык и была хромоножка (говорили, попала под поезд), я училась у нее в пятом классе.
А в другом доме жил человек, который был в армии Власова, рядовым солдатом, поневоле вместе со всеми, не по идее. Он отсидел. Никто его не обижал. На 9 Мая он всегда плакал.
3. Я сломала руку лет так пять уже назад, попала в больницу (слава богу, в Москве), сделали операцию; в нашей палате была женщина, она сломала руку на катке ВДНХ: повезла туда своих учеников-кадетов (будущие следователи) кататься. Она всем бросалась помогать, кто сам не мог себе помочь (нога сломана, лежачие). Я тоже принимала участие, неловко было не принимать, а когда она выписалась, я как бы продолжила ее дело.
Ничем, конечно, ни она, ни я не рисковали.
Вообще, добрых людей я встречала немало. Мне на них везет.
Светлана Щелкунова
Ваше начинание бесценно. У меня обязательно найдутся друзья, которые что-то да добавят. Сама я, увы, ничего добавить не могу. Мои родители не распространялись на эту тему. Знаю только, что дядя Вася, так звали бабушкиного брата, попал к немцам в концлагерь, бежал оттуда, бежал долго, а потом прямиком — уже в наш лагерь. Дедушки мои умерли довольно рано, и бабушки тоже, прежде чем я стала интересоваться этой темой. И ничего мне не рассказывали (только немножко и выборочно про войну), а родители тоже... А больше спросить не у кого. Но у меня обязательно должны найтись такие друзья, в семьях которых могут быть подобные истории... когда люди поступали по-человечески. И я тоже ни за что не верю в историю о миллионе доносов. А тема сейчас очень важная и актуальная...
Игорь Шумейко
Прекрасная идея Александра Мелихова будет, надеюсь, развиваться по многим направлениям. Зрительный образ — кристаллизация (кажется, воды в научпопфильме): к каждой грани кристаллика пристраиваются новые и новые. Узор растет. (Другой образ «цепной реакции» — взрыв — стараюсь отодвинуть...)
Я бы посоветовал растить «кристаллы благородных примеров» в сторону... официально выражаясь, «сферы межнациональных отношений». Частные примеры доброты, благородной человеческой солидарности порой заслонены — именно этими «официальными выражениями», но они, «будничные», нарисуют нам, составят узоры истинной красоты.
Частный пример № 1.
Перед походом в чукотские края казак Семен Дежнёв женился на якутской красавице Абакаяде Сючю. Мимоходный, бытовой, но популярный «титул» открывателя пролива меж Азией и Америкой я услышал от поэтессы Натальи Харлампиевой: «первый якутский зять».
Близ Ледовитого океана отряд Дежнёва порой объединялся с группами Михаила Стадухина и Семена Моторы. Чаще они расходились, рыская по просторам размером со среднюю евространу. Задание у всех одно: «объясачивать». Собирать ясак, забирать аманатов (заложников, которых воеводы держат при себе, следя за выплатами).
Ясак, шаблонно понимают: дань. В действительности это «проекция» Ясы, закона Тенгри, неба — на определенную территорию. Россия и платила ясак, и взимала, когда «хан переехал в Москву» (Рюриковичи сменили Чингисидов). Сдавший ясак (в основном меха) получал «государево жалованье» (топоры, пилы, иглы, ткани).
Это дела масштаба государственного, даже глобального: тогда же шла колонизация других частей света... с другими итогами. И «освоение Сибири», и «величайший в истории геноцид» (индейцев), работорговля, «опиумные войны»... давно включены в межгосударственные, цивилизационные споры. Но «Архипелаг Благородства» Мелихова собирает примеры частные, простые поступки людей, своей малостью укрытые от госпропаганд.
Таковой была... драка, случившаяся на самом востоке Азии, близ Ледовитого океана. Михаила Стадухина бил Семен Дежнёв — он был против взятия ясака и аманатов у очередного племени: «Эти слишком бедные!» Стадухин требовал все же взять ясак. Спор и перешел, как у нас случается, в драку.
Пример хорош именно полной свободой от любой пропаганды, «высокой политики». Записка о той драке, жалоба Стадухина несколько веков лежали среди истлевающих бумаг, перечней взятой рухляди (шкурок соболей, черно-бурых лис...). Так же безнадежно был затерян и отчет Дежнёва о пройденном проливе меж Азией и Америкой. Век спустя открывать его послали Витуса Беринга. Вспомнив через много лет, крайнюю точку Азии назвали мыс Дежнёва.
Надеюсь, откроют и «виртуальный остров» архипелага Благородства. Где на скрипящей гальке, близ только что открытого пролива... Семен в кровь лупит Михаила. Хриплые выкрики: «Взять ясак!», «Да они и так бедные!» — безмерно удивляют тюленей, лежащих на берегу студеного моря.
Мария Бушуева
На эти факты стоит посмотреть не с позиций сегодняшнего дня, а представив то время, когда любая, даже незначительная помощь или добрый совет осужденному по 58-й, а также уже отбывшему наказание, но не реабилитированному грозила той же статьей или всевозможными неприятностями помогающему. В газетах тогда публиковали заявления отказавшихся от своих близких родственников (знаю известные фамилии, но не стану их называть) — люди боялись, что тень 58-й упадет и на них: не только рухнет карьера, но — жена и дети отправятся вслед за арестованным отцом.
Сейчас биографию писателя, уроженца Петрограда, Ю. М. Магалифа легко найти в Интернете. Цитирую по сайту: «В июле 1941 года его арестовывают, осуждают по статье 58, в связи с тем, что в его вещах найдены стенограммы первого съезда Союза писателей с фамилиями Радека, Бухарина, и отправляют в лагерь возле Новосибирска. <...> В 1946 году Юрий Михайлович освобождается с запретом проживания в 146 городах страны. Благодаря помощи начальника лагеря, он остался в Новосибирске, где устроился работать в филармонию. Женится <...> на Ирине Михайловне Николаевой, концертмейстере, бывшей ленинградке-блокаднице. С ней он проживет до ее смерти в 1995 году и посвятит ей множество стихов» (https://fantlab.ru/autor5008?ysclid=lvxtrsi92k875445379).
Рисковал ли своим служебным положением начальник лагеря, помогая бывшему заключенному? Вполне возможно. Его помощь Магалиф всегда вспоминал с благодарностью. Моя бабушка-радиожурналист близко Юрия Михайловича знала, с его слов знала и его сложную биографию. Она первой, еще до публикации, дала по радио его сказку о симпатичной обезьянке, попавшей в Сибирь, — сохранилась его книжка, подаренная ей (тогда еще не бабушке), с забавной надписью: «Крестной матери моего Жакони».
Но еще с большей благодарностью и теплом Юрий Михайлович всегда говорил о жене. Дело в том, что вышел он из лагеря тяжелобольным и тогда же познакомился с Ириной Михайловной, в то время пианисткой. Она буквально выходила зэка-туберкулезника. Ирина Михайловна была лет на десять старше Магалифа, и в конце ее жизни он так же преданно ухаживал за ней...
Когда репрессированные возвращались, далеко не все подавали им руку, некоторые продолжали видеть в них «врагов» и опасались за самих себя. Но гораздо важнее другие факты: если вернувшимся из лагерей негде было даже переночевать, поскольку в родной город часто им дорога была закрыта или их квартиру уже заняли беспринципные ловкачи, все-таки находились люди (была такая женщина и среди моей родни), которые, сочувствуя, предоставляли им на первое время свой кров, помогали лекарствами.
И еще один факт. Один из моих близких родственников в 1930-е годы работал заместителем директора крупной организации. Как-то раз его в коридоре остановил один из сотрудников и посоветовал срочно уволиться и уехать из города. Родственник сразу понял, в чем дело: нескольких человек из их организации уже арестовали. Он сориентировался и уехал на Север. Это его и спасло. А сотрудник рисковал...
Архипелаг Благородства или обычной человечности, сохраненной вопреки всему, должен проступить из тумана. Идея, на мой взгляд, очень нужная именно сейчас. Спасибо Александру Мелихову.
Нева. 2024. № 6