Александр Мелихов, Елена Долгопят. Поленовский дворик и светящийся дым
Александр Мелихов. Поэзию городов создают не только архитекторы, но и поэты — чем был бы Петербург без «Медного всадника», без «Петербургских повестей» и без «Преступления и наказания»? Поэзию наших любимых уголков мы начинаем воспринимать, подключаясь к чужому лирическому полю. Иногда к общенациональному — Пушкин, Гоголь, Достоевский, а иногда и к чьему-то личному. В романе «Испепеленный» я рассказал, как в мою еще детскую провинциальную душу впервые проник Петербург, тогда еще Ленинград.
Посланницей сказочного Ленинграда в нашем шахтерском поселке была Виктория Николаевна, обвитая мудрым дымком сигареты среди книг, которыми папа пренебрег, — я запомнил только Ибсена и Марка Твена. И еще казахскую фамилию Ахматовой и смешную — Пастернака. Как и вся наша интеллигенция, Виктория Николаевна попала в Северный Казахстан за казенный счет, там и задержалась, хотя оба ее сына учились в Ленинграде, и как-то раз ее навестил ленинградский племянник. Он носил тюбетейку и поразил меня тем, что предложил мне базарную клубнику из газетного кулька со словами: «Угощайтесь, пожалуйста».
Раз в несколько лет Виктория Николаевна и сама торжественно отбывала в ленинградское паломничество и привозила оттуда невероятно красивые фотографии размером с тетрадный листок, и я благоговейно их разглядывал. Хотя имена звучали еще более чарующе: Невский, Литейный, Владимирский, Аничков мост, Гостиный двор, Адмиралтейство, Медный всадник, Зимний дворец, Петропавловская крепость...
Так что когда я приехал поступать, то сразу же оказался среди старых знакомых: Невский, Литейный, Владимирский, Аничков мост, Гостиный двор, Адмиралтейство, Зимний дворец, Медный всадник...
Куда ты скачешь, гордый конь, и где опустишь ты копыта! Ты копыта, ты копыта... Конский топот.
Все эти чудеса действительно существовали! И я оказался среди них!! Это было самое чудесное чудо из чудес!!!
Тут стройность, там мощь, здесь изящество, там грандиозность...
Во мне тогда еще не звучали подобные слова, но все оттенки восторга во мне и пели, и гремели.
Стрелка Васильевского, исаакиевский золотой купол за синей Невой — люблю тебя, Петра творенье!
Мне лишь изредка удавалось вспомнить о приличиях и захлопнуть рот.
Иссякающие белые ночи, конечно, подзатянули светлую часть суток, но я бы и без этого не вспомнил, что по ночам документы не принимают. Зато я навеки влюбился в мои милые, нарезанные чудными ломтиками Двенадцать коллегий с их бесконечным, ведущим в любимую библиотеку Горьковку коридором, осененным справа стеклянными шкафами со старинными книгами и слева портретами потрудившихся здесь великих ученых (самых заслуженных даже удостоили запыленных временем белых статуй).
Так что ночь на скамейке Московского вокзала под расписным безмятежнейшим сталинским небом тоже была одной из самых счастливых ночей моей жизни — куда там первой внебрачной ночи!
Но это были шедевры, так сказать, общего пользования. А потом я обустроил собственный любимый уголок на Васильевском острове. Общежитие Восьмерка у юго-западного угла Смоленского кладбища, куда мы, юные варвары ходили играть в волейбол и целоваться на надгробной плите какого-нибудь секунд-майора, конструктивистский ДК имени Кирова, где мы смотрели старые фильмы, несколько трущобный Малый проспект, средний Средний проспект, размашистый Большой с видом на залив, незабвенный матмех на Десятой линии, на котором за все годы моей учебы так и не удостоили заменить стеклянную вывеску с отбитым углом, что меня особенно восхищало: у джигита бешмет рваный, а оружие в серебре. Я мог бы перечислять и перечислять, мне дорого все, от пышечной до трамвайного парка.
А какие у тебя личные любимые уголки?
Елена Долгопят. Я люблю открытые места, большое небо. Например, полудикое футбольное поле у нас в поселке. Белый снег ослепляет, глаза привыкли к экрану, не могут перенастроиться, охватить все открывшееся им пространство. Нет препятствий, ограждений, стен, смотри свободно, беги вдаль, хотя бы взглядом. Конечно, это не степь (которую не раз я наблюдала из окна вагона бегущего поезда; правда, кажется, что поезд не движется, что все усилия напрасны; закатное красное солнце, горизонт, скоро ночь).
Я обхожу поле медленным шагом, останавливаюсь. Я начинаю различать дома вдали, колокольню. Я засматриваюсь на играющих в футбол ребят (восточные ребята, приезжие). Они играют на краю, все поле им велико. И это уже, конечно, не зима, не снег, от которого у меня бегут слезы, так он ярок. Это уже лето, на поле растет трава, по дороге за полем катит машина, в стекле отражается солнце.
Другое пространство — кладбище. Оно расположено между двух шоссе. Старое Ярославское шоссе и Новое. Над кладбищем безбрежное небо. Земля глинистая, сырая, трава на ней растет, как бешеная. Если за могилой не смотреть, трава ее погребет. Цветы кажутся глазами. Синими, желтыми, белыми, странными.
Смерть. Жизнь. Свобода. Свет. Вечная подземная тьма.
Кресты, надгробия, флаги, бегущие по шоссе машины, несмолкаемый гул. Улетевший высоко в небо тонкий, прозрачный целлофановый пакет. Фотография на могильном камне. Глаза как будто видят меня. И цветы видят. И небо.
Много было мест, которые я любила, и все они сохранились только в моей памяти. Вот, например, Рязанский проезд в Москве. Раннее темно-синее зимнее утро. Слева дома. Дорога обледенела, освещена скупо, шагать надо осторожно. По правую руку, внизу, в глубине, тянутся железнодорожные пути. Иногда по ним идет поезд. От Каланчевки к Курскому вокзалу. Или от Курского вокзала к Каланчевке. Окна вагонов, их свет, перестук колес, все это рядом и все это далеко, недостижимо.
И сейчас существует Рязанский проезд. И сейчас ходят внизу поезда. Но выглядит это место иначе. Наверное, даже лучше прежнего. Наверняка. Но мне в этом новом месте места нет.
Александр Мелихов. Все, что попадает в литературу, обретает потенциальное бессмертие. Вот и Рязанский проезд с этой минуты для меня наполнился поэзией. Как и все, о чем ты упоминала в каких-то своих зарисовках. Ярославское шоссе, «Ярославка», ВДНХ, за которой притаился Музей кино. Ты можешь рассказать о них поподробнее?
Елена Долгопят. Я так часто, так много пишу о музее, что уже и самой надоело. Тем более что дело не в месте. Хотя место хорошее, шагать пешком приятно: сосны, белки, важные рыжие утки, лебеди в пруду, рыбаки на берегу. Все обустроено, удобно, красиво. Зимой, конечно, ни лебедей, ни уток, ни рыбаков, и утро зимой не светлое, а темное, но фонари светят, и елки светят от ноября до марта, прямо возле музея стоит одна с сияющей на макушке звездой. Яблони цветут, когда им положено цвести, сирень роскошная дурманит. Рай на земле. И динамиков не слышно, пока мое утро, моя рань. Динамиков на ВДНХ тьма, так что идешь с работы под бесконечные песни.
Я это дело терпеть не могу. Мне бы тишины.
И конечно музей не притаился за ВДНХ, а прямо на ВДНХ и располагается лицом к прудам, спиной к Ботаническому саду. Весь белый, стройный, с прекрасной экспозицией внутри, ну и я там бываю, сижу в фондах, разбираю опавшие листья: письма, удостоверения и прочий житейский мусор, который люблю.
Еще мне вспомнилось об открытых местах.
Парковка в Ростокино, у супермаркета; и тут же — торговый центр, громада. Не новая парковка, повидавшая виды, ранним утром пустая. Идешь по ней, идешь, проспект Мира гудит за спиной. Гудит, катится в обе стороны, один поток (к центру) обернется Сретенкой, другой (к МКАД) Ярославкой.
Ну вот, пусть он там гудит за спиной, проспект наш Мира, а я шагаю свободно по старому асфальту от супермаркета к ТЦ, вдоль одного крыла которого тянется старая, ржавая железная дорога. Одна колея. Летом она зарастает травой. А сквозь одну из шпал пробилось деревце. Пробилось, растет. Я перехожу пути, поворачиваю, иду между железной дорогой и ТЦ. Здесь и проспекта Мира почти не слышно.
По крайней мере, не видно. И все дорожные развязки, и МЦК с «Ласточками», все это сумасшедшее движение, как будто рассеивается в воздухе, и мне кажется, что я не в мегаполисе, а где-то в Муроме, но не в том Муроме, про который пишут путеводители (он от меня далек). Мой Муром — рабочая окраина, одноэтажные дома с печным отоплением, сады, огороды, вода из колонки, походы в баню, дорога на вокзал, голоса диспетчеров, свисток, который мне подарил сосед, помощник машиниста. Свисток свистит, как тепловоз. Куда-то он запропастился, этот свисток, не знаю куда.
Саша, расскажи про степь.
Александр Мелихов. О, степи бывают очень разные, но главное — в них нужно углубляться одному или с очень близким человеком. С которым незатруднительно молчать. Но лучше все-таки одному — тогда скорее почувствуешь, что ты не один, а с тобой она. Степь.
И услышишь, как она звенит. А может быть, это звенит у тебя в ушах из-за невозможной в нашем мире тишины.
И увидишь неохватность горизонта, невозможную в нашем мире. И если ты молод, если тебе всего каких-нибудь шестьдесят, то ноги сами все быстрее и быстрее понесут тебя, сами не зная куда, и тут нужно не забываться, потому что в какой-то миг можешь обнаружить, что не знаешь, в какую сторону тебе возвращаться. Особенно если степь не ровная, как биллиардный стол, а холмистая — горки все одинаковые, и не понять, с какой ты горочки спустился. Когда-то нас всей школой гоняли на поиски заблудившегося мальчишки, и мы таки его нашли.
Степная трава тоже очень разная вплоть до полного ее отсутствия, и степь может быть засыпана щебенкой, как бесконечная строительная площадка, а может быть растрескавшейся, как бесконечная пересохшая лужа, с кое-где прижившимися пучочками травки. И блестит в ней только укатанная дорога, к горизонту разливающаяся мелководным озером, над которым трепещет не то газетный лист, не то крыло чайки. Но подъезжаешь все ближе и ближе, а озеро вместе с чайкой отъезжает все дальше и дальше.
А иногда степь похожа на дно бесконечной пересохшей реки, на котором оранжевые водоросли приглажены течением в одну сторону, и они кажутся мягкими, как шелк. Но ничего мягкого в степи мне не попадалось, и седой волнующийся ковыль из-за острых колосков в народе даже называют овечьей смертью. В мире много вещей, которыми следует любоваться и не вглядываться в них слишком пристально. А особенно не испытывать на своей шкуре.
Вот и мне издали твой родной Муром представляется очень поэтичным. Одно имя чего стоит! А монастырь! Не может же быть, чтобы у тебя там не было любимых уголков?
Елена Долгопят. Я ведь давным-давно не живу в Муроме, бываю дня три в году (и то не каждый год). Мой Муром унесло время. Вместе со мной. Так что я там, на другом берегу. И здесь, на этом. Смотрю на свое смутное отражение вдали, а оно меня не видит. В том моем (давнем) Муроме монастыря не существовало. В моих местах. Но очень хорошо помню церковь на высоком берегу Оки, запушенную, без крестов, недалеко от нее бил родник, мы к нему ездили иногда с Казанки (так звалась наша окраина), спускались по крутым и шатким деревянным ступеням, набирали в бидон студеную воду, выпрямлялись, оглядывались, смотрели на Оку, на другой берег внизу, на дорогу в Навашино. Однажды зимой, у самой реки (она была подо льдом), в пасмурный день я увидела эту церковь высоко и в отдалении. Она как будто парила в воздухе. Потому что заснеженный берег и небо сливались, были неразличимы. Это фантастическое видение я пристроила в один свой рассказ под названием «Машинист» (который до этого был дипломным сценарием).
Церковь сейчас при крестах, действует, я в ней бываю, и к роднику спускаюсь, и на Оку смотрю. Жаль, что купаться в ней каждый год запрещают, все какие-то сбросы выше по течению. Но люди все равно купаются. Берег песчаный. Моста (понтонного), который вел к дороге на Навашина, давно нет, есть другой, современный, но далеко.
Вспомнилось еще одно место, многим оно известно. Поленовский «Дворик». Я часто на него смотрю. Не в Третьяковкой галерее, а у себя дома. Он у меня круглый, фарфоровый, висит на стене. Блюдо с тонкой золотой каймой, как иллюминатор, через который я и наблюдаю этот дворик. Московский, но не московский. А вот как раз муромский. Для меня. Волшебный давний мир, тропинка, церковь, светлое небо, запечатленная жизнь.
А у тебя есть такая картина-место?
Александр Мелихов. Однажды в моем родном шахтерском поселке щипучим зимним вечером — я был классе в пятом — мы прощались с дружком у него на крыльце, и я вдруг впервые увидел зимнюю зарю над горами щебенки и светящийся от заходящего солнца бесконечный горизонтальный дым из кочегарки — и вдруг поразился: «Как красиво!» Дружок усмехнулся: «Я каждый день это вижу», — и я смущенно замолчал. А между тем это было пробуждение души. До этого для меня существовало только интересное и скучное, а вот когда интересное начинается оттесняться красивым, это и есть пробуждение души. И этот светящийся дым будет стоять у меня перед глазами до конца моих дней. Даже жаль, что он исчезнет вместе со мной. Хорошо бы собрать побольше таких мгновений — может получиться целая книга «Пробуждение души», у Павла Мейлахса есть такая миниатюра. Это была бы очень светлая книга.
Не жизни жаль с томительным дыханьем,
Что жизнь и смерть? А жаль того огня,
Что просиял над целым мирозданьем,
И в ночь идет, и плачет, уходя.
Нева. 2025. № 6





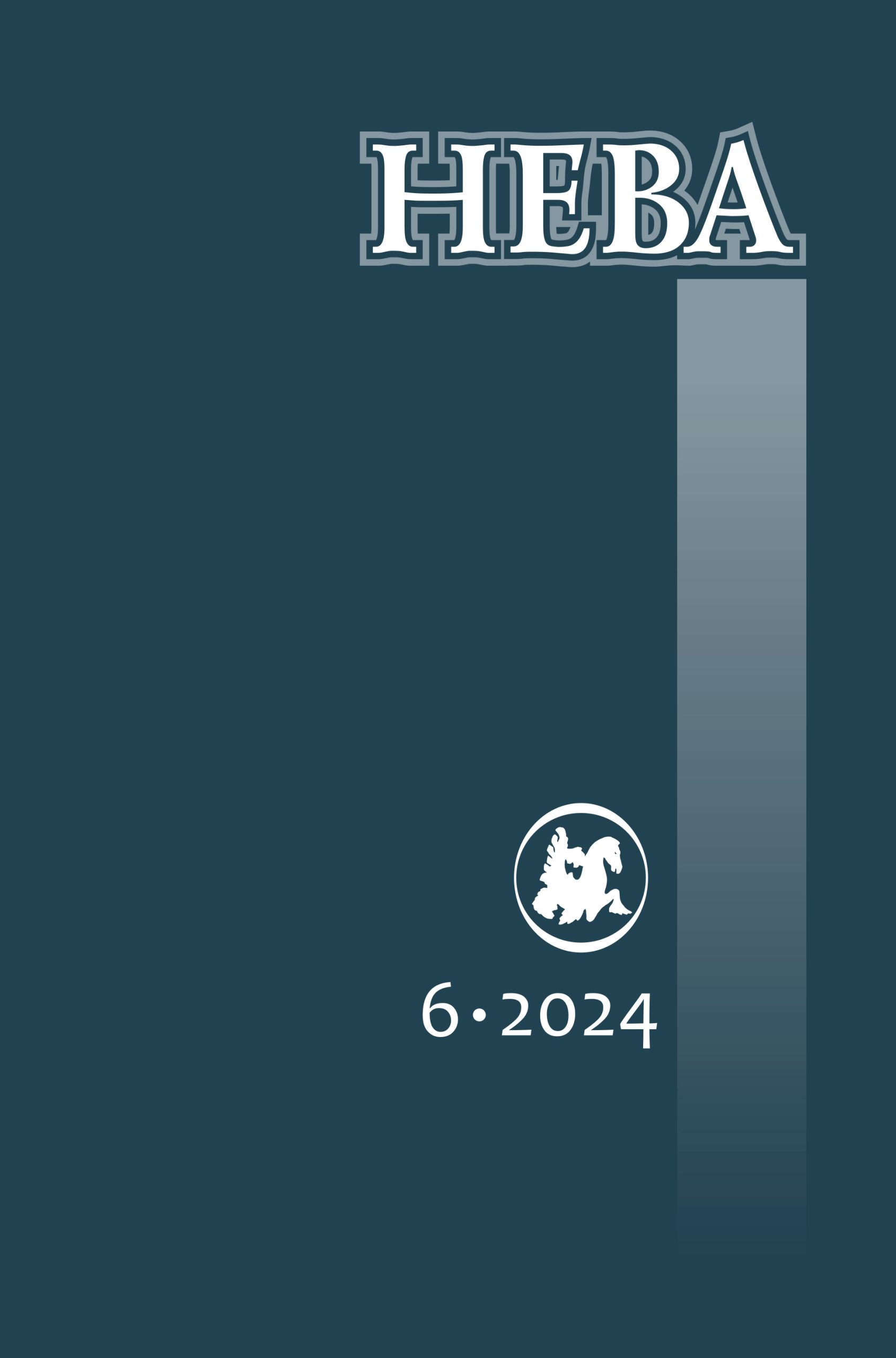











Дорогие друзья, вы можете поделиться любовью к своим уголкам России по адресу nevaredaction@mail.ru (смотрите страницу «Авторам» на сайте).
Ну надо же! Картину из рассказа МАШИНИСТ я узнала раньше, чем Елена рассказала, куда ее «пристроила» И, конечно же, ощущение, знакомое всем жителям НЕ ПЕТЕРБУРГА, когда впервые приезжаешь в этот город. Ощущение, что ты здесь уже был и все здесь знаешь. Особенно, если родной город - дитя XVIII века и построен по образу и подобию :)))
Я много лет прожила в Казахстане, полюбила степи, прозрачное на просвет червонное золото полей с пшеницей твёрдых сортов, проворных синих зимородков, ныряющих в синюю воду неширокого Ишима, синих же стрекоз над этой же речкой. Иногда вечером мы выезжали в степь, недалеко от нашей компании вылезал из норы и сидел красивый толстый сурок. Он подолгу смотрел на закат и о чём-то же думал!.. Я любила степь, но душа, оказывается, всё-таки томилась по России. И вот, когда я обыкновенно ночью ехала из Домодедова в Москву, на глаза попадался совершенно неприметный холм, поросший тёмно-зелёной блестящей травой, и я в этот момент всегда начинала плакать... «Я тоже! Я тоже плакала! - вскричала одна русская женщина, соседка по степному Аркалыку. - Только там справа от трассы бежала дорожка к какой-то деревне...»